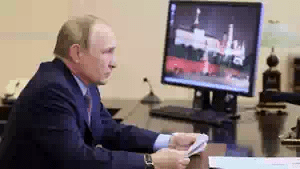Войну в Украине, которую Россия, по убеждению многих экспертов, уже проигрывает, нередко называют колониальной и имперской. Исторический опыт свидетельствует о том, что империи, проигрывая войны, могут распасться. Ситуацию обостряет тот факт, что теперь у Российской Федерации, после «референдумов» о присоединении украинских областей, де-факто нет признанных во всем мире границ.
Об угрозе «распада страны» Владимир Путин говорит с первых лет своего правления. Небходимостью предотвращения такого сценария он, как правило, и оправдывал строительство вертикали власти, подавление местных инициатив, последовательную ликвидацию институтов местного самоуправления и централизацию финансовых потоков, лишавшую регионы не только политических прав, но и финансовой самостоятельности.
И вот теперь на фоне войны в Украине появляется всё больше прогнозов о том, что Россия может повторить судьбу СССР. В действительности такой сценарий маловероятен, но и другие варианты послевоенного развития России особого оптимизма не вызывают, говорит политический географ, профессор Свободного университета Дмитрий Орешкин.
– С моей точки зрения, главная угроза распада страны – это Владимир Путин, потому что он восстанавливает примитивную модель территориального менеджмента, – поясняет Орешкин. – А именно советскую модель, когда всё замкнуто на центр. Это суперцентрализация, эту модель власти строили товарищ Ленин и товарищ Сталин. Ленин начал с того, что уничтожил разделение властей, потому что пролетарскую революцию должны делать вожди пролетарской революции и поэтому у них в руках должна быть и законодательная, и исполнительная, и политическая, и военная власть, и любая другая. В чисто функциональном, географическом смысле это выражается в том, что вся жизнь собрана в столице.
Эта модель супер-гипер-мегацентрализации в чисто экономическом смысле не выдержала испытания временем. Советский Союз распался, в том числе, из-за чудовищной неэффективности экономического территориального менеджмента: когда в Москве есть Министерство рыбной промышленности, которое определяет нормы лова для Дальнего Востока, и пока не определит, лов проводить нельзя. Или когда эстонская шоколадная фабрика должна рецепт торта согласовывать в Москве, процесс согласования длится месяцами, а тем временем торт не производят.
Суперцентрализация душит экономику, и не зря Никита Хрущёв начал децентрализовывать хозяйственное управление. Хрущев ввёл совнархозы, советы народного хозяйства по местам, и экономика начала дышать. Конец 1950-х годов отличался быстрым восстановительным ростом, а потом этот стимул иссяк, нужны были ещё более смелые демократические шаги, но Хрущев к этому уже не был готов. Леонид Брежнев опять всё начал централизовывать, потому что ЦК почувствовал угрозу полномочиям центральной власти.
– В чем они увидели риски?
– Они восприняли рост самостоятельности регионов как угрозу централизации управляемости. Если регион богатый, у него своя ресурсная база, он не очень зависит от центра и начинает «гулять»: нам это не нужно, нам это невыгодно. Вертикаль власти начинает скрипеть. В частности, это было не артикулированной, но явной претензией к Хрущеву: что он ослабил центральную систему управления. И снова пошла супер-гиперцентрализация.
Но чем сложнее и развитее экономическое пространство, тем дробнее, мельче должны быть контуры территориальной ответственности. Если вы посмотрите на карту Европы, вы увидите, какое там мелкое дробление. А если у тебя Луна, то вполне достаточно одного человека, чтобы он ею командовал, потому что там командовать нечем. Чтобы территория развивалась, необходима тесная связь менеджмента с этой территорией и, соответственно, перераспределение полномочий от центра к регионам. И здесь постоянный конфликт приоритетов: или вы хотите, чтобы страна была послушная, вся управляемая из одного центра, или вы хотите, чтобы она была богатая.
– Но по Конституции Россия – федеративное государство.
– В 1990-е годы она и была федерацией. Были очень серьёзные проблемы у Ельцина с регионами, вплоть до чеченской войны. Шаймиев (Минтимер Шаймиев, первый президент Татарстана) сурово торговался с центром и использовал жёсткие рычаги давления. Например, в 1993 году явка на выборах в Государственную думу Российской Федерации составила 14% в Татарстане, притом что в тот же день шли выборы президента Республики Татарстан, и там была явка 56–57%. Местная элита осознанно саботировала федеральную повестку – избиратели получали «госдумовские» бюллетени на руки, только если сами спрашивали. Это делалось для демонстрации давления на Москву. Тогда же серьёзные проблемы обсуждались – суверенный Татарстан всерьёз хотел брать пошлину за движение поездов из Москвы во Владивосток!
Эта модель создавала чудовищное напряжение для центра, но она помогала существовать и развиваться регионам. Появлялся реальный федерализм, и тогда Совет Федерации был реальным полномочным институтом, в котором надо было торговаться, идти на политические сделки. Путину это очень не нравилось, и первое, что он начал делать, – уничтожать эту региональную вольницу. Он создал федеральные округа, а это не что иное, как репликация военного управления, когда есть один верховный главнокомандующий, у него не больше десяти фронтов. Десять федеральных округов, в каждом федеральном округе-фронте есть сколько-то армий-регионов. В каждом регионе есть «генерал». С точки зрения вертикальной власти командовать такой системой, когда у тебя десять подчиненных, а не 85, проще.
Но эта система хороша во время войны, а во время нормального мирного развития должно быть больше свобод, больше конкуренции, меньше монополизации. Ельцин был вынужден с этим взаимодействовать. Пришёл Путин и постепенно опять замкнул всё на себя и ограничил экономические свободы регионов. При Ельцине налогооблагаемая база регионов делилась пополам, половина шла в центр, половина осталась на развитие регионов, что очень правильно. Теперь, по данным сибирских экономистов, примерно так: 62% – Москва, 38% – на местах. Но раз у тебя только треть доходов, что тебе корячиться – всё равно большую часть отберут! Стимула нет, потому что цель Москвы – чтобы регионы были бедные, но послушные. Они клюют с кремлёвской ладошки. Политическая управляемость усиливается, а общие экономические темпы развития падают. Не случайно последние десять лет в России практически нулевой процент экономического роста. Для чего вся эта супер-мегацентрализованная модель? Для того, чтобы ресурсы собрать в центре и на что-то их бросить. В советские времена – атомная бомба, освоение космоса, Гагарин и всё прочее. А теперь – мы видим, на что.
Путин считал, что он укрепляет государственность, себя делает центром и таким образом сплачивает страну, а на самом деле уничтожал институции, которые обеспечивали горизонтальные связи. Замечательный географ, светлой памяти, Леонид Викторович Смирнягин говорил, что границы регионов в нашей стране видны из космоса, что вообще-то безумие. Почему видны? Потому что все регионы связаны дорогами с Москвой и не связаны друг с другом – межрегиональных отношений нет. Если тебе надо попасть из деревни Коняты Смоленской области в деревню Осовик Брянской области, между которыми 25 км, то тебе надо ехать до федеральной трассы, доезжать до Брянска, из Брянска возвращаться 100–150 км. Я ездил там – там идёт дорога, которая постепенно превращается в просеку, а дальше кабаны и край партизанской славы. Когда смотришь на космический снимок, ты видишь по границам каждого региона леса непроходимые. Губернатор отвечает за центр региона, а приграничные районы его не интересуют.
– Вертикаль власти, которая создавалась для обеспечения единства страны, получается, сработала противоположным образом?
– Она ещё не сработала, она создает потенциал. Нам что говорят: есть Путин – есть Россия. А Путин же не вечный, нет Путина – и что дальше? Ну бывает: человек простудился и умер. По закону, в течение трёх месяцев премьер должен выполнять функцию президента. За эти три месяца он организует выборы. И на выборах народ выбирает, кто будет следующим. Смотрим пример Туркмении. Там помер туркменбаши. По закону, власть временно приходит к главе межлиса. А в реальности этого главу Гурбангулы Бердымухамедов сразу изолировал и перехватил власть.
В России отсутствуют политические институции, Путин их уничтожил. Есть конкурирующие группы, которые Путин создал для того, чтобы поддерживать систему сдержек и противовесов. Есть силовики, есть группа Золотова, которого не любят эфэсбэшники, есть Шойгу, который не любит их всех, и все они вооружены. У всех подчинённые силовые структуры. Убираем Путина – и что, они должны прийти и сказать: «Товарищ Мишустин, ты по закону у нас премьер, ты организуй выборы, Элла Александровна честно посчитает голоса, и кто победит, тот, значит, и станет»? Весь их опыт жизненный говорит, что Элла Памфилова нарисует тому, кто будет де-факто командовать. Значит, выборов никто из них ждать не будет. Они понимают: кто станет царем горы, тот на выборах и победит. Надеяться на то, что Кадыров скажет: «Ну, как народ выберет, так оно и будет», никаких оснований нет, это противоречит простому здравому смыслу.
– Из обозначенных вами группировок только у Кадырова есть условно своя территория. Золотов, Шойгу, Сечин, все остальные не имеют территориальной привязки. Как борьба группировок может отразиться на региональной карте?
– Пока на нашей карте, за исключением Кадырова, вооружённых сил нет ни у кого. Другой вопрос, что региональные начальники не смогут просто сидеть и ждать. Какие-то отношения у всех есть, каждый начальник, глядя на то, что происходит наверху, должен для себя принять решение: ты с кем? Идеальный вариант: отсидеться, а потом проявить лояльность победителю. Но обычно так не выходит. Силы, которые борются в центре, обращаются к своим знакомым регионам за поддержкой: нам нужны люди, нам нужно влияние.
– И тут будет совершенная чересполосица, там же внятных границ у этих групп поддержки нет?
– Может, они начнут что-то формировать. Дальний Восток вряд ли сейчас готов от Москвы отделиться, потому что рядом Китай, они его всерьез опасаются. Свердловская или Уральская республика – тоже не актуально.
– А сибирское областничество?
– В Сибири изо всех сил говорят: «Мы не-не-не, не подумайте дурного», но есть новосибирский Академгородок, там сидят умные люди, экономисты, которые умеют сложить и проверить цифры. И они понимают, что центр их систематически обувает.
Дело в том, что Путин всё замкнул на центр. Как только начинаются проблемы в центре, региональные элиты оживают. И ведут себя по-разному. Наиболее продвинутые регионы, Татарстан, Башкортостан, по объективным причинам будут вынуждены заявлять свою политическую позицию. Трудно предсказать, какую именно, потому что националистические движения, которые там растут снизу, сегодня, в отличие от 1990-х годов, не имеют поддержки со стороны официальной региональной власти.
– А интересы региональных начальников и местных националистов могут в один момент сойтись и слиться в единый вектор?
– Пока этого нет. Пока региональные начальники столь сильно зависят от Кремля, что им для сохранения власти гораздо важнее иметь хорошие отношения с Кремлем, чем с населением. И в этом сила путинской модели – до того момента, пока вертикаль вдруг не ослабнет. А ослабеть она может именно из-за войны, из-за этой стратегической ошибки центра. Когда начинается ослабление центра, в частности, чисто экономически, ВВП падает, центр меньше может давать регионам на ладошке кормления. Зато пытается больше забрать у регионов-доноров. Да, Хабирову надо взаимодействовать с Кремлем, как-то он поскрипит, но согласится. Но тут же есть критики, которые борются за свои интересы, и они будут говорить простые, неправильные, но эмоционально очень понятные слова: «Они там воюют, а мы здесь, значит, должны надрываться».
Националистические региональные движения часто иррациональны. Мы пытаемся осознать это рациональными терминами, а там люди борются за власть. И они начинают голосить: мол, так и так, наши парни там гибнут, ради чего, а мы еще это деньги платим. Когда начнется ослабление Кремля, главы регионов поневоле будут вынуждены договариваться с этой публикой. А публика почувствует, что у нее появляется политический ресурс, и, соответственно, начнет выдвигать новые требования.
Путин, создав эту модель, привыкнув, что он безошибочный командир и все его слушаются, на самом деле в долгосрочном плане создал экзистенциальную угрозу для страны. Он мог бы создать институции, которые регулируют эти процессы. А теперь этих институций нет, есть только сила. Это пока кажется умозрительной концепцией. Но по мере того, как Путин будет слабеть, регионы будут а) возмущаться, в) требовать и с) внутри себя консолидироваться. При этом, как правило, в нелегальном поле, потому что кто сейчас в Совете Федерации – там только тот, кто купил себе место.
– Вы упомянули национальные регионы и регионы с крепкой экономикой. А что можно сказать про русские области, у которых и с населенностью, и с экономикой большие проблемы?
– Это так называемые старорусские культурные центры. Региональные процессы измеряются поколениями, тут по щелчку пальцев ничего не изменишь. Структура территориального деления во многом дореволюционная, и, например, в Тверской области до революции было двенадцать тысяч населённых пунктов, а в конце Советского Союза две тысячи. Это то, что Николай Николаевич Баранский или другие крупные экономические географы называли «экономической пустыней». Едешь ночью из Москвы в Питер – одна лампочка в Бологом, всё остальное темное.
Старый русский цивилизационный центр начиная с 1917 года переживал демографическую, хозяйственную, любую другую катастрофу. Во времена Петра Столыпина он был перенаселен: земли мало, мужиков много, поэтому им предлагали взять землю в Сибири или в Казахстане, а благодаря товарищу Сталину и коллективизации сельское хозяйство вообще исчезло. Те же самые мужики кинулись в города, потому что там были карточки, можно было как-то пережить. Потом в хрущёвские, брежневские времена немножко стало полегче. Вокруг Москвы стали формироваться, благодаря оборонной централизованной промышленности, города-спутники, типа Электростали, Зеленограда. А в 1990-е годы процесс оздоровления пошёл ещё быстрее. Появилась Калуга, например. Калужская область – пример того, как правильно надо делать. Там было много производства – пиво, автомобили, оконные рамы. В течение 10–20 лет так получалось, что везло Калужской области с руководством, и, пользуясь близостью к Москве, Калуга быстро росла.
Обидно то, что сейчас, из-за этой путинской истории, именно лидеры больше всех и пострадали из-за санкций. Тут логика такая: если ты всю жизнь весной высаживаешь картошку, осенью ее собираешь, зимой её ешь, то тебя не очень волнует курс евро. Тебя не волнуют глобальные проблемы, картошка она и есть картошка, лишь бы не отбирали.
Путину удобно, когда регионы бедные. Если мы посмотрим, какие регионы в первую очередь платят налог кровью, то это Бурятия, Тыва, в меньшей степени Чечня, из русских областей – Ивановская, Псковская (там десантники), Костромская область, самые-самые тихие. В Костроме живут крайне небогато, в отличие от той же Калуги. Владимирская область – глубокая депрессуха, без боли не взглянешь. Из этих областей Путин гребёт больше всего рекрутов, потому что они тихие, безответные, полностью зависят от Кремля.
– А что с историческими центрами – Псковская вечевая республика, Новгородская вечевая республика, Республика Карелия?
– Карелия традиционно свободолюбива. А вот Псковская и Новгородская – всё-таки Иван Грозный их затоптал ещё давным-давно. В Великом Новгороде сильно было влияние европейской культуры. Например, в Тихвине местные купцы на церкви решили поставить железный крест, наглядевшись на образцы европейские. Иван Васильевич был глубоко этим возмущён, потому что Спасителя распяли на деревянном кресте, а железный – это чужестранное влияние, с ним надо бороться. Он пошёл уничтожать Новгород и успешно его уничтожил, после этого Великий Новгород несколько столетий приходил в себя, да так и не пришёл. Сейчас это красивый, с большой историей, но всего лишь областной центр.
– Здесь мы никакого сепаратизма не увидим?
– Нет, у них просто сил нет для этого. Они слишком слабы. Калининградская область ещё туда-сюда. Понятно, там каждый второй военный, но дети этих военных уже совсем по-другому устроены. Я бы не сказал, что здесь есть риск сепаратизма. Есть риск одичания. Вот это более серьёзная вещь – вторичное одичание пространства. Ивановская область, Владимирская, значительная часть Ярославской, Тверская запустевают, люди оттуда выезжают. Раньше они уезжали, условно, в Тверь, Ярославль. Теперь уезжают хорошо, если в Москву, а чаще сразу за рубеж, потому что бегут от призыва. Идёт депопуляция в общероссийском масштабе. За прошлый год мы потеряли миллион человек из-за ковида. За этот год, наверное, тоже потеряем миллион человек, потому что многие уехали, плюс накладывается негативная демографическая ситуация. Плюс мужики гибнут на фронте в самом фертильном возрасте. А как женщинам рожать, если нет мужиков?
– Я слышала мнение, что странам Балтии после войны хотелось бы видеть новое буферное государство между собой и Москвой. Такое возможно?
– Люди в России не понимают того, что Запад давно живёт в концепции геополитики потоков вместо геополитики площадей. Площади ему не нужны. Ему не надо завоёвывать Венесуэлу для того, чтобы пользоваться венесуэльской нефтью. Потому что никуда, кроме как на Запад, Венесуэла свою нефть не продаст. Поэтому Западу не надо завоевать Россию. Эти 17 млн квадратных километров, населённых людьми, которые не будут рады, они совершенно не нужны ни Америке, ни Европе. Охота Латвии контролировать Псковскую область? Зачем, чего в Латвии не хватает? Опять же, с точки зрения геополитики буферная зона никакого смысла не имеет, потому что через буферную зону ракеты летают точно также, как они летают над российской псковской территорией. Это всё терминология столетней давности.
Я думаю, что ни один вменяемый политик в Латвии, Эстонии и Литве об этом не заикнется – у них просто ресурсов нет, чтобы обслуживать эту зону. Они даже стену-то построить не могут, это дорого. Инстинктивное российское восприятие, что Запад нас хочет завоевать, глубоко ошибочно, потому что Запад контролирует потоки – финансовые, информационные, технологические. Запад доллары будет класть на стол. А Путину, сколько бы он там не кричал, чтобы газ оплачивали рублями, эти доллары понадобятся, чтобы покупать те же самые чипы для ракет.
– А есть геополитические потоки, для которых нужен русский северо-запад?
– Конечно. Если бы Путин чувствовал своё пространство правильно, он должен был бы создавать линию, например, Северного морского пути. Глобальное потепление идёт, там, по-видимому, будет открытая от льда зона. Но для того, чтобы путь мог функционировать, там должны быть хорошие морские терминалы. Это приносило бы огромную выгоду. Потому что корабль из Сеула в Роттердам через Суэцкий канал идёт месяц. А через Северный морской путь это было бы полтора раза быстрее и дешевле. Выгода очевидная. Другая очевидная выгода – сухопутный транспортный коридор из Сеула в Роттердам через Россию. Там Путин ездил в начале своей истории, помните, на жёлтых «Жигулях». Он проехал, дорогу забыли сразу. Вместо этого вынуждены были строить мост в Крым, ради этого отменив строительство моста через Лену для Якутии. А для Якутии это очень важно, потому что это связь со всей страной. Это опять ошибочная система приоритетов, избранная Путиным, когда он вместо того, чтобы развивать территории, из них как пылесосом всё вытягивает – и в войну. И людей, и деньги, и ресурсы – всё, что угодно, и всё это сжигает.
– Настоящий федерализм в России возможен?
– Я думаю, что теоретически да, а практически нет. Потому что есть такая вещь, как ментальная инерция. Советская ментальная инерция опасна тем, что задаёт людям «самоочевидность». Самоочевидность зависит от устройства очей. Вот какие у тебя очи, так ты и видишь. Люди смотрят на мир через телевизор и думают, что да, вокруг нас враги, которые спят и видят, как бы захватить наши политые кровью территории. Это элементарное заблуждение, осознанно поддерживаемое Путиным и той корпорацией, которую он представляет. Их логика такая: «Ребята, священные рубежи Родины надо охранять? Надо. Давайте бабки». И здесь есть инстинктивная, нутряная идеология: все вокруг враги, надо сплотиться, нужен настоящий начальник.
Проблема в том, что сейчас к Путину начинаются претензии как раз с этого фланга: царь-то ненастоящий, «Сталин бы на его месте…» и так далее. Путин не справляется с той функцией, которую он сам на себя взял. Центр начинает проседать. Когда центр проваливается, начинается региональная турбулентность. Мы не знаем какая. Если в центре начнётся кровавая разборка, то она перекинется и в регионы, никуда от этого не денешься.
– Из-за войны россияне заново осознают себя как носителей «имперского синдрома» – кто-то с горечью, кто-то с гордостью. Можно ли говорить о продолжающемся распаде империи – царской либо советской?
– Вообще термин «империя» слишком лапами захватанный. Это теперь синоним нечистой силы в самом широком смысле. Империя – это то, что хорошо в своё время. Сегодня империя функционально не актуальна. И её не будет, потому что у Путина нет на это ресурсов.
«Империя», по сути, глобальный культурный лидер, который обеспечивает стабильность. Да, он подавляет, но и создает условия для развития. От Римской империи нам остался латинский язык, на котором говорит вся европейская наука, осталось римское право, остался Гай Валерий Катулл, выдающийся поэт. От Британской империи в Индии осталась железнодорожная сеть, английский язык, система образования, система здравоохранения. В Кении до сих пор осталась политическая модель, поэтому Кения, в отличие от соседей, неплохо себя чувствует. Российская империя была проводником европейских ценностей на восток. И она была по-настоящему конфедеративным государством (например, Великое княжество Финляндское имело свой сейм, свою железнодорожную сеть, свой язык, свою систему образования). Сегодня эта концепция ушла из общественного сознания. Осталась сталинская концепция, что мы были едины, неделимы, новая историческая общность советских людей и всех побеждаем. Сталинская империя была империей наизнанку.
– А «имперский синдром» существует?
– Сегодня есть группа товарищей, вот эта путинская корпорация, которые хотят командовать. Они хотят командовать всеми – и украинцами, и русскими. Русскими командовать легче, потому что им понятен этот язык: ребята, надо сплотиться вокруг нас, а мы будем вас доить, но обеспечивать вам безопасность. С Украиной у них то же самое просто не получится. Другое дело, что есть люди, которым нравится идея, что они принадлежат к великому могучему народу. Жрать нечего, жить негде, но зато нас все боятся и уважают. Если называть «имперскостью» вот эту милитаризацию сознания: есть я, есть начальник, он командует, а я горжусь тем, что топчу чужую землю, – это есть. Но чисто эмпирически работает не так ярко, как хотелось бы имперцам. Шойгу нам сказал, что воевать пришли тринадцать тысяч добровольцев. А в Грузии нам рассказывают, что семьсот тысяч мужиков призывного возраста утекли через границу. Вот это про «доминирование» имперского сознания. Как только вопрос не о теоретических основах, а о конкретной жизненной проблеме, так «извините, я в Грузии».
– Какой будет Россия после войны?
– Я бы хотел сказать, что «наиболее вероятно создание демократической, федеративной страны», но боюсь, что это не актуально. Давайте начнем с этого варианта: Россия превращается в демократическую страну. Такое возможно, только если появится очень сильный лидер, в значительной степени авторитарный, типа Ельцина, который поставит такую цель. Это было возможно в 1990-е годы, потому что всем было понятно, что мы в тупике, чтобы хуже не сказать, и что выбираться надо в сторону Запада. Это был консенсус, и Ельцин по этому пути шёл. Сейчас этого консенсуса нет, потому что группе товарищей очень нравится, как устроена страна, и эта группа гораздо более обширна и влиятельна, чем это было в советские времена. Тогда нравилось только партийной номенклатуре. Сейчас это нравится огромному количеству людей, которые работают в «Газпроме», «Роснефти». У них высокие зарплаты, они себя хорошо чувствуют – их миллионы. Если в девяностые годы было всем понятно, что так жить нельзя, то сейчас значительной части людей кажется, что так жить можно. Ожидать, что появится сильный лидер, который будет пользоваться консолидированной поддержкой большинства в направлении движения к европейской системе ценностей, не вижу оснований.
Более вероятный вариант, когда люди, которые воспринимают эту страну как корпоративную собственность, понимают, что или у нас война между вооруженными корпорациями, или мы находим какой-то компромиссный вариант, который управляет этой огромной территорией. Это военная хунта. «Хунта» – это ведь «совет», советская власть. За каждым из участников хунты стоит какая-то силовая группировка, и они, как в послесталинские времена, друг друга жрут, но без гражданской войны. Потом хунта начинает выяснять, кто в доме хозяин, и, скорее всего, это приведет к появлению нового авторитарного лидера. Как правило, таким становится человек самый серенький, незаметный, тихенький, которого никто не боится, как Хрущёв в свое время, как сам Сталин.
– Как и Путин.
– Да, кстати, и Путин. И третий вариант – это гражданская война. Когда группировки не договорились, под них подтягиваются разные региональные группы и начинается мочилово. Опять же мы отравлены советским воспитанием. Для нас гражданская война – это война восставшего народа против эксплуататоров. На самом деле гражданская война – это война между разными группами влияния, которые к себе подтягивают этот самый народ. Группы влияния есть. Правовой нигилизм есть, то есть к закону никакого уважения нет. Ориентация на силу есть, это Путин всё сам создал. Так что, гражданская война – это вполне реальный вариант выхода из путинской ситуации. Чудовищный, но, к сожалению, не менее вероятный, чем хунта. Какие ещё варианты? Честно говоря, других я уже и не вижу.
– Вариант оккупации и расчленения России Западом, о чем постоянно твердит российская пропаганда.
– Это никому не надо. Соединенные Штаты понимают, что они у Путина эффективнее и быстрее выиграют мирную конкуренцию, чем военную. Им не надо завоёвывать территорию. Они этого в Афганистане наелись. Для них Россия – это тот же Афганистан, только с ядерной бомбой, поэтому гораздо страшнее. Они помнят, как Рейган завалил Советский Союз – без войны, просто ценами на нефть. С Путиным они готовы сделать ровно то же самое. Так что, никакой оккупации не будет, надежды на «план Маршалла» – тоже не вижу оснований.
– У демократической оппозиции нет никаких шансов прийти к власти в послевоенной России?
– Сейчас нет, она пропустила своё время, она разменяла свои права на сладкую жизнь, согласилась с тем, что выборы фальсифицируются. Казалось, что это не так важно, в общем-то живём неплохо. Никому в голову не могло прийти, что кончится войной, – считает географ и политолог Дмитрий Орешкин.