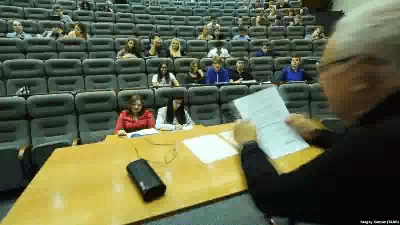T.me 100 лет назад, осенью 1922 года, из России отправился «философский пароход». Россию покинули Николай Бердяев, Иван Ильин, Питирим Сорокин, Семён Франк и еще около трехсот оппозиционно настроенных интеллектуалов. Любая «утечка мозгов» – беда для страны, из которой утекает научный потенциал, ведь наука и высшее образование – это двигатель прогресса и основа развития любого современного общества. Нынешнюю волну научной эмиграции называют «философским самолетом»: после начала войны с Украиной из России уехали тысячи оппозиционно настроенных «академиков», то есть научно-образовательное сообщество.
Разница с исходом столетней давности – не только в способе передвижения, но и в численности уехавших. По подсчетам некоммерческой организации OK Russians, до осенней мобилизации Россию покинули около 300 тыс. человек. Столько же людей, по мнению независимого демографа Алексея Ракши, могло уехать после начала мобилизации. Социолог Маргарита Завадская, изучавшая мигрантов 2022 года совместно с OK Russians, оценивает долю академиков приблизительно в 12% от общего числа уехавших весной и летом. Если пропорция сохранилась после объявления мобилизации, то Россию могли покинуть несколько десятков тысяч из полумиллиона исследователей и преподавателей, работавших в научных институтах и вузах до начала войны, то есть каждый десятый.
Но 90% остались. Многие из них выразили свою антивоенную позицию в самом начале войны – подписывали петиции и открытые письма, ходили на антивоенные митинги и пикеты. Одних уволили или заставили уволиться, другие предпочли отказаться от публичных выступлений, чтобы сохранить рабочее место и возможность заниматься любимым делом.
Те, кто остался в стране и продолжает работать, испытывают сильное давление: многие боятся обсуждать войну с коллегами и студентами, опасаясь доносов, административного или уголовного преследования. Почти никто не высказывается в соцсетях. Большинство из них отрезано от возможностей международного сотрудничества, поездок на научные мероприятия и публикаций в ведущих научных журналах.
Упущены ли все шансы и есть ли способы продолжать заниматься наукой и преподаванием общественных дисциплин в регионах России в условиях войны? Как реагируют на происходящее студенты? Почему «академики» не чувствуют поддержки от коллег, уехавших за границу? Об этом, а также о том, почему остались в России, поговорили с преподавателями региональных вузов и сотрудниками региональных научных центров, продолжающими работать в России.
Мы не называем имена героев для их безопасности. Все они в начале войны подписали антивоенные петиции и обращения, и сохраняют свое неприятие войны, хоть и не могут выражать свое мнение открыто в соцсетях или СМИ.
История первая: «Называем войну войной»
Александр работал в одном из региональных вузов Северо-Запада более 10 лет. Несколько лет назад понял, что, оставаясь в родном вузе, он стоит на месте: было ощущение «засасывания в болото». Он нашел работу в одном из крупных федеральных вузов в Петербурге, но до июня 2022 года продолжал преподавать и в своем родном. После начала войны твердо решил уйти из регионального вуза и остался работать в крупном федеральном университете.
Александр говорит, что реформы образования последнего десятилетия обнулили все достижения, которые в региональных вузах нарабатывались в 1990-е и 2000-е годы. Перспективная молодежь стала уезжать либо в столицы, либо за границу, и работать стало некому и не с кем.
– Это была просто беда, и в какой-то момент я понял, что на кафедре остается совсем мало вменяемых людей. В [региональном университете] становилось все хуже, и в какой-то момент стало совсем тошно с точки зрения атмосферы, людей. Поэтому я воспользовался предложением преподавать в [крупном российском вузе]. Это было совершенно прекрасно: там работали люди, с которыми я говорил на одном языке, – говорит он.
Большинство коллег Александра в региональном вузе побоялись подписать антивоенные петиции еще до того, как это стало нарушением закона.
– Я общался с коллегами на моей кафедре в [региональном университете]. У них нет войны, и не было ее с самого начала. И когда я говорил им: «Какой ужас!», они реально отвечали: «А что случилось?» Я окончательно понял, что там с людьми мне вообще не о чем разговаривать, – рассказывает преподаватель.
Разница между региональными и столичными вузами, по его словам, не только в недостатке хороших преподавателей, но и хороших студентов.
– Конечно, есть в [региональном университете] студенты с откровенно провоенной позицией. Они ее не скрывают, и это было одной из причин, почему я отказался там преподавать. Нет, в [крупном российском вузе] тоже есть разные студенты. Но здесь и преподаватели разные. И тут ведутся по всем вопросам открытые дискуссии – и со студентами, и с преподавателями, – говорит он.
По словам Александра, в последние годы студенты стали часто «стучать» на преподавателей. Для этого в каждом вузе есть специальный человек или отдел, ответственный за «безопасность», куда можно обратиться с соответствующим доносом. Преподаватель полагает, что рано или поздно это произойдет с каждым.
– С коллегами в [крупном российском вузе] мы много раз обсуждали, как нам жить дальше. Моя позиция простая, и ее разделяет большинство: мы работаем до первого доноса. То есть мы говорим в аудитории открыто: называем войну войной, а российский режим – диктатурой. Потому что для меня это красная черта: если я не смогу в аудитории называть вещи своими именами, то нечего мне там делать. Я не веду на занятиях политическую агитацию, но в связи со спецификой преподаваемых дисциплин, моя личная позиция звучит достаточно четко. И да, я абсолютно уверен, что в [региональном университете] донос случился бы быстрее, чем в [крупном российском вузе], – считает Александр.
Открытые и доверительные отношения со студентами – важная причина, почему он не уехал из страны и остался преподавать. Многие коллеги Александра сделали другой выбор – ушли из вуза под давлением руководства или уехали из страны, опасаясь преследования.
– Весной 2022 года сразу несколько преподавателей ушли прямо посреди семестра, и студенты стали задавать вопросы оставшимся: «А вы тоже уйдете? Ведь это же предательство!» Меня это очень впечатлило. Я не считаю предательством уход тех, кто вынужден был уйти. Но я действительно считаю, что у нас есть ответственность перед нашими студентами и что бросать их сейчас неправильно, – утверждает педагог. – Мы с остающимися много это обсуждали, и часто это правда напоминало поминки. И все друг друга спрашивали: а ты уходишь? В итоге стало понятно, что большинство остается. Мы для себя решили, что остаться – это тоже жест. Это решение в пользу наших студентов, потому что если мы уйдем, то придут другие, и учить они их будут совсем другому и по-другому. Придут пропагандисты и будут им втирать про идеологию.
Он считает, что будущее общественных наук в России незавидно, а факультетов и кафедр, куда можно было бы отправить учиться политологии, например, своего ребенка, почти не осталось.
– С другой стороны, общественное и гуманитарное образование в регионах никуда не денется. Надо думать над тем, чтобы в «прекрасной России будущего» переформатировать высшее образование так, чтобы преподаватели работали, а не делали вид, что работают. Надо обязательно развивать liberal arts. Я помню себя и смотрю сейчас на своего ребенка из гуманитарного класса: я вижу, как растет мозг, и я уверен, что хорошее базовое гуманитарное образование никому не повредит. Надо просто в будущем дать возможность этому хорошему развиваться, – говорит Александр.
История вторая: «Мы наблюдаем деградацию»
Борис – кандидат наук, доцент университета одного из приграничных регионов России, где он работает почти три десятилетия. Он тоже говорит, что мог бы уехать, но решение оставаться работать в России было принято в том числе из-за чувства ответственности перед студентами и перед немногочисленными достойными коллегами.
– Никуда не денешь эту ответственность. Во-первых, перед студентами, которых мы набираем и которые идут к нам целенаправленно. Если не мы, то кто их выпускать будет? Во-вторых, ответственность перед коллегами-преподавателями. 20 лет назад нас было много, но после всех «оптимизаций» нас осталось мало. Если уйду я, уйдет [моя коллега], уйдет [еще один коллега], то [коллега] останется один. И ему не справиться с нагрузкой, и студентов некому учить, – говорит Борис.
По его словам, у него самого и у многих из тех, кто остался, появилось «чувство безысходности и понимание положения заложника». Впрочем, многие были если и не рады новому витку «патриотических разнарядок», то воспользовались им в своих интересах.
– Некоторые преподаватели – вряд ли по своей инициативе, а скорее по разнарядке – пошли читать лекции и проводить беседы про СВО по студенческим группам. Среди них были и неожиданные для меня люди, надо признать. Не то чтобы совсем сенсация, но когда я об этом узнал, то плечами пожал, конечно, – рассказывает он.
С некоторыми из коллег у Бориса случались споры о войне, а друзья и приятели стали чаще спрашивать, почему он еще не уехал из страны.
– Некоторые говорят, зная мою включенность в международные сети: «Ну я-то ладно, а что ВЫ тут [до сих пор] делаете!?» Вопрос, действительно, витает в воздухе. У меня нет ответа, скорее есть уход от ответа. Я этого не сделал в 1990-е, в том числе по семейным причинам, правда, а теперь уже действительно, как многие говорят: кому мы там нужны, особенно предпенсионного возраста? Это правда, – говорит он.
По мнению Бориса, одно из самых негативных последствий войны для региональной науки в России – остановка международного сотрудничества. Когда-то международные связи российских университетов позволили создать кафедры и целые факультеты общественных наук – западные университеты присылали литературу для библиотек, преподаватели ездили читать лекции российским студентам, россияне же ездили на Запад перенимать лучшие практики преподавания и управления вузами, студенты участвовали в многочисленных обменных программах.
В вузах Северо-Запада это было особенно важно, потому что последние три десятилетия выстраивалась система отношений с европейскими университетами – в первую очередь, из северных стран, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, но развивались и связи с вузами Западной Европы и Северной Америки. Сейчас сотрудничество практически остановлено, и здесь это ощущается особенно остро.
– Изменилось решительно все. Начиная с больших рамочных вещей, когда нам говорят, что целые страны «ставят сотрудничество на стоп». Почти все формализованные контакты и проекты с Западом подрезаны. Это нанесет большой и растянутый по времени урон, потому что потом придется начинать с начала: налаживать первичные контакты, которые существовали с 1990-х годов и теперь утрачиваются, придумывать новые обменные программы для студентов, потому что именно эти обмены, в первую очередь, приближали нас хоть как-то к Болонской системе, – рассказывает Борис.
Не работает «международка» теперь и в обратную сторону: невозможно пригласить коллегу из западного университета прочитать лекцию, даже если это никак не касается войны или политики вообще, и даже если это не стоит ни копейки принимающему университету. Теперь за международное сотрудничество выдают конференции с участием людей из не признанных никем, кроме России, государств.
– У нас по-прежнему проводят международные конференции. Начинаешь смотреть программу, искать международных участников, и видишь: Луганская народная республика, Донецкая народная республика и что-то там еще такое. В этом и заключается их международность, – говорит он.
Но международное сотрудничество – неотъемлемая часть работы «академиков». Ее отсутствие уже сказывается и на качестве преподавания, и на качестве исследований, то есть на производство новых знаний. И дальше ситуация будет только усугубляться, считает он.
– Прекращение сотрудничества с «недружественными странами» означает отсечение от финансирования, от возможности проводить совместные исследования, от поездок на конференции и общения с коллегами. В итоге процесс деградации российской науки резко ускорился после начала войны. Причем как в регионах, так и в столице, – замечает Борис. – Если мы хотим сохранить распределенную систему высшего образования, не концентрирующуюся в суперцентрах, то без сохранения гуманитарного образования этого сделать невозможно. Без него классический университет невозможен. «Злодей» [Джордж] Сорос [американский миллиардер и филантроп] неслучайно еще в 1990-е придумал схему, при которой финансирование научных, образовательных и инфраструктурных проектов распределяется таким образом, чтобы определенная доля денег обязательно попадала в регионы. Эта схема и сейчас действует у большинства грантодателей, финансирующих науку. Ну и слава богу.
История третья: «Прекращение сотрудничества с Западом не поможет остановить войну»
Вера – сотрудница регионального научного центра. До этого она преподавала в университете в одной из региональных столиц СЗФО, где закончила аспирантуру. Сейчас занимается исследованиями и проектами, связанными с изучением российского севера.
После начала войны в их организацию, как и в другие, стали чаще приходить кураторы из спецслужб, чтобы выяснить, «как обстановка», говорит она.
– Человек [сотрудник ФСБ] приходит периодически в разные подразделения. В начале марта он приходил будто бы обсуждать обычные вопросы, которые они там по своей линии контролируют, какую-то отчетность ведут. Но заодно спрашивал, как обстановка, не подписывают ли сотрудники антивоенные петиции… Думаю, он прекрасно знал, что как минимум пара человек подписали известное Письмо российских ученых против войны, не говоря уже о петиции Льва Пономарева на Change.org. Но дальше намеков и пропагандистских клише дело не пошло. А со стороны руководства вообще никаких «вводных» не было. Во всяком случае, я ни от кого ничего такого не слышала, – рассказывает Вера.
Больше всего она удивляется тому, как быстро ее коллеги приспособились к новым обстоятельствам после начала войны. И это при том, что проблем в работе действительно стало много: меньше источников финансирования, проблемы с оборудованием для проведения исследований и даже с компьютерным «софтом».
– Люди быстро приспособились: ситуация меняется, значит, мы должны изменить свою работу, а может, и отношение к происходящему. Не можем мы теперь публиковаться в международных журналах, значит, будем в российских публиковаться. Не можем пригласить на конференцию западных коллег – пригласим белорусов. Нет доступа к нормальному оборудованию – работаем на том, что есть. И это делают все, кто бы как ни относился к «спецоперации». В общем, отношение к войне и жизни во время войны – это тест, если не на IQ, то как минимум на человечность. И этот тест некоторые коллеги не прошли, – говорит она.
Из-за введенных санкций еще весной завершились многие западные проекты: одни коллеги из иностранных институтов написали вежливые прощальные письма, которые она читала с пониманием, но были и те, кто вызвали разочарование.
– Сейчас, после нескольких месяцев молчания [западных коллег], ощущение, будто этого многолетнего сотрудничества просто не было. Когда я вижу, как развивается ситуация – запрет на общение, санкции, визовые ограничения и так далее, – то скорее чувствую что-то вроде раздражения. Все это не помогает остановить войну, – считает Вера. – Произошел резкий и обоюдный отказ от сотрудничества с Западом, и дальше отечественная наука будет долго приспосабливаться под новые условия существования. Для кого-то этот многолетний процесс будет болезненным или вовсе убийственным, но кто-то сможет его пережить.
Есть два варианта продолжать работать: кто-то будет искать сотрудничество в таких странах, как Китай, но мы, на севере, будем проигрывать тем, кто ближе к этому региону находится, убеждена она.
– Минобрнауки пытается заместить сотрудничество с Западом на сотрудничество не только с Китаем, но и с Ближним Востоком, Африкой, в общем, от Кубы до Эритреи. Думаю, такие возможности будут появляться. А кто-то вообще никаким сотрудничеством не будет заниматься. Будет и дальше ориентироваться на российских грантодателей типа РНФ [Российский научный фонд], субсидии министерств, хоздоговоры и все такое, – говорит она.
Развивать науку, особенно региональную в условиях санкций будет еще сложнее, чем раньше. В проекте бюджета на 2023–2025 годы расходы на гражданскую науку предполагается сокращать, а не увеличивать. То есть государство не считает эту сферу приоритетной и финансирует «по остаточному принципу».
– Надо понимать, что у нас наука в любом случае недофинансирована, нет возможности привлекать лучшие кадры. Когда началась война и все посыпалось, меня удивила реакция государства, которое как будто сказало: мы столько лет вам помогали, а теперь давайте сами. Как будто не было проблем с расходными материалами, как будто хватало денег на командировки и полевые работы, хотя бы в России, не говоря уже о поездках за рубеж. Но оказывается, хорошо уже было, – говорит она.
Важной задачей ученых, по мнению Веры, должно быть не только производство новых знаний, но и сохранение в российском обществе ростков здравомыслия. Придется быть изобретательными, чтобы суметь использовать даже «патриотические Z-гранты» не во вред, а во благо общественного развития. До тех пор, пока это будет возможно.
– Мне кажется, что сейчас нужно не только пытаться сохранить научную отрасль, но и заниматься просвещением. Работа со старшими школьниками и студентами, и просто обычными людьми очень важна. Так мы сможем способствовать развитию критического мышления, которое в теории должно помочь защитить от дезинформации и пропаганды больше людей, – считает Вера.
«Все будут бояться сесть»
Все собеседники сходятся во мнении, что у региональной общественной науки, как и у отечественной науки в целом, почти нет шансов сохранить наработки и достижения последних трех десятилетий. Вероятнее всего, после войны многое придется начинать заново.
Исследователь Хельсинкского университета Маргарита Завадская изучает тех академиков, кто уехал из России за время войны с Украиной – совместно с проектом ОК.Russians, – и тех, кто остался. По ее данным, основная масса уехавших, преподаватели и исследователи – это люди из крупных городов, не из регионов.
– Те, кто мог, быстро уехали из Москвы и Петербурга. Из регионов было уехать сложнее: даже люди с последовательными [антивоенными] взглядами не понимали, что у них есть возможность уехать. А потом многие подумали: «Ага, вот эти москвичи-питерцы [быстро] уехали и заняли все места, а мы-то кому там теперь нужны?» Много было и тех, кто не готов был бросать семьи: «Вот я поеду, а муж мой не говорит по-английски, что я там буду с ним делать, он там зачахнет», – рассказывает Завадская.
Зачастую академикам сложнее уехать из страны, чем условным предпринимателям или айтишникам, потому что переезд почти всегда связан с «дауншифтингом», то есть потерей профессионального положения.
– Эмиграция – это привилегия. Но это не кусок тортика: ты приехал – и тебе все готовое принесли. Даже те, кто уехал из Москвы и Петербурга, теряют в статусе, то есть миграция в академии всегда сопряжена с поражением статусных позиций. Далеко не все на это согласны, – говорит она.
Те, кто остался работать в России, как вынужденно, так и исходя, например, из чувства ответственности или желания бороться, будут подстраиваться под систему, считает Завадская.
– В тех интервью, которые я проводила [с преподавателями региональных вузов], я замечала, что если в начале интервью человек высказывал откровенную антивоенную позицию, то к концу говорил про помощь детям Донбасса. Этот переход [в состояние «все не так однозначно»] происходит очень постепенно, незаметно. Потому что люди – существа чудовищно адаптивные и они постепенно подстраивают свой нарратив [под реальность]. Они очень хорошо оправдывают то, что им надо оправдать. И даже образованные люди в России, люди с антирежимными и антивоенными взглядами начинают воспроизводить дискурс телевизора и испытывать ресентимент, – говорит она.
Завадская уверена, что позитивного сценария ни для региональной, ни для столичной науки не существует. Для этого есть множество причин: отсутствие доверия в треугольнике отношений администрация вуза – преподаватели – студенты, демотивированность тех, кто остался в России и продолжает работать в вузах и научных институтах, разрушение международных связей и контактов с западными коллегами. Важно понимать, что продолжение войны будет ежедневно ухудшать ситуацию, вызывая новые и новые волны профессиональной эмиграции.
– Чем дольше будет война, тем глубже будет это болото. Уже нанесён непоправимый ущерб образованию, в том числе гуманитарным и социальным наукам, и, боюсь, он невосполним. Потому что Россия уже утратила человеческий капитал, который мог бы это всё восстановить. Возможно, будут отдельные всплески, чудеса, но это не будет конвейером, который будет соответствовать международным стандартам по качеству подготовки студентов. Это мы потеряли, – говорит Завадская.
Единственный относительно оптимистичный сценарий для региональной науки Завадская связывает с тем, что Москва будет сосредоточена на том, чтобы купировать протестный потенциал в столицах, и «плюнет» на регионы.
– Я в некотором смысле верю в подпольное сопротивление, в «фигу в кармане». И по-прежнему думаю, что в тех местах, куда в 1990-е приехали активные молодые преподаватели и где они остались, как в моей родной Перми, какие-то гуманитарные и общественные науки выживут. Но если такое подпольное сопротивление и будет хоть как-то возможно, то только в регионах. Можно попробовать укрыться в условном Новосибирске, читать лекции в Иркутске или Перми, куда лапы [режима] не дотянутся. А в Москве и Питере все будут бояться сесть, – уверена Завадская.